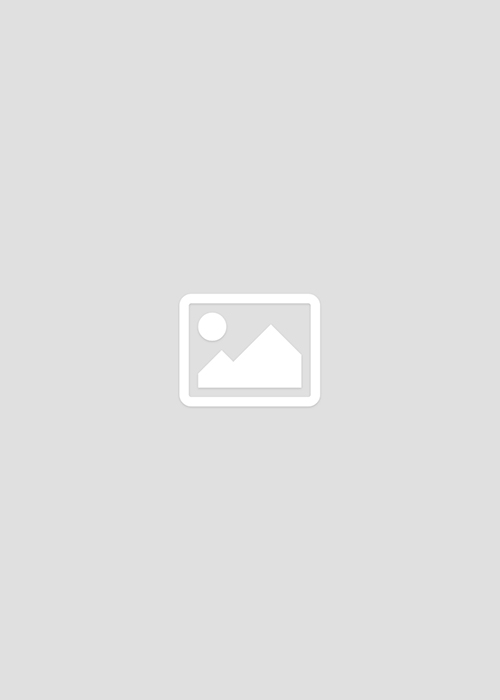Картезианские размышления М. К. Мамардашвили: опыт сознания и осознания в единстве объективной и субъективной реальности
Аннотация
с психологией в ее различных измерениях. Картезианские размышления М. К. Мамардашвили определяют возможность приблизиться к психологическому пониманию «Новой философии», а также общенаучных категорий сознания и осознания. Сопоставление содержания категорий сознания и осознания в картезианском оформлении и в современной «науке о сознании» позволяет расширить представление о движущих силах человеческой мысли в ее объективных и субъективных (личностных) проявлениях. Отдельные выдающиеся носители сознания различных исторических эпох, объективирующие свое восприятие, эмоции, интеллект и волю в свободном диалоге (внутренняя коммуникация) на языке философии, оказываются, парадоксальным образом, психологически консолидированными в многообразном континууме реального бытия в сочетании с индивидуальными формами инобытия (те или иные виды трансценденции).
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Актуальные проблемы психологического знания № 03/2024 |
| Страницы | 9-19 |
| УДК | 159.9.01 |
| DOI | 10.51944/20738544_2024_3_9 |
«Картезианские размышления» известного философа М. К. Мамардашвили — весьма сложное по содержанию и стилю произведение. Трудности понимания текста связаны с комплексным характером этого сочинения. Оно включает: анализ основных философских произведений Декарта, авторские оценки соответствующей переписки с современниками, а также «перекличку» с взглядами философов различных эпох. Сложны для современного читателя и исходные тексты XVII века, и тогда же определившаяся проблема сознания. Стилевую сложность можно объяснить рядом причин (см. предисловие Ю. П. Сенокосова в книге [9]), проявившихся в контаминации стилей устного лекционного и письменного монографического жанров. Как отмечает В. П. Зинченко, «лишь… в последние годы своей жизни М. К. Мамардашвили впал “как в ересь в неслыханную простоту”» [7, c. 515].
Спасительным «кругом» этой удвоенной сложности стало для нас удивительное, глубоко эмоциональное отношение автора «Размышлений» к личности Декарта. Здесь и признание, и уважение; принятие идей и смысловых «медитаций» Декарта; восхищение глубинами смыслов, концентрированными формами атрибуции «непроницаемых сущностей»; деликатное оппонирование и возражения критикам в преодолении, так или иначе аргументированных, барьеров понимания со стороны равновеликих философов — таких как Г. Лейбниц, Б. Спиноза, Дж. Локк и др. В «Размышлениях» можно найти и такие оценки: «декартовские тексты написаны прозрачно, просто и элегантно, а вместе с тем — непонятно», «непроницаемый элемент мысли Декарта», «самый таинственный философ» [9, с. 72]; «королевский путь Декарта» [9, с. 78]; «он прошел над бездной незнания…» [9, с. 90]; «гений чистой красоты» и др. Очевидно, что человек, вызывающий столь высокие оценки, проявляет особый тип индивидуальности, основанием которой служит уникальное сочетание определенных качеств личности. В своих «Размышлениях» автор выделяет ряд особенностей Декарта, в частности значительный по времени период путешествий и переездов без возвращения в родные места («абсолютное отстранение» или территориальная «вненаходимость»), отсутствие эмоциональной привязки к какому-либо месту и времени при фиксации и постижении сущности наблюдаемых явлений. Этому соответствует и отмеченный автором «девиз» Декарта: «Выступаю в маске» [9, с. 2, 13].
Примечательна в характере Декарта и такая особенность, как сочетание холодного рассудка с ситуативной решительностью и поведенческой страстностью. Автор выделяет также жизненную активность Декарта, многочисленные встречи и обмен впечатлениями, мнениями; «интенсивное общение»; «насыщение себя новым, любопытным, выдающимся и открытым». К уникальным в образе Декарта можно отнести фиксируемые с авторских позиций «состояния звенящей прозрачности одиночества, воодушевления, энтузиазма, оживления всех душевных сил» в преддверии «момента истины». К основополагающим качествам личности Декарта Мамардашвили относит: «энтузиазм честолюбия», вызов судьбе — «один на один» и «один на один с миром», «великое безразличие, которое есть в нас и в Боге». Все эти качества объединены автором в логике внутренней доминанты — «расспросить и описать себя», «найти незаместимое место “Я” в мире», что равносильно «описанию Вселенной» [9, с. 3–4, 12, 48].
Весьма важен вывод Мамардашвили, что «архимедовой точкой», или «рычагом», метода философии Декарта является «феномен осознавания», вне которого невозможен «выход к некоторой онтологии», в том числе и в других измерениях (перечислены: антропология, психология, гносеология, культурно-историческая методология) [9, с. 48]. Более того, «сознание — единственное начало для какой-либо онтологической позиции в метафизике и эпистемологии. Оно включает рефлексию сознания. Любое сознание, о котором идет речь у Декарта, есть самосознание… сознание, сознающее себя» [9, с. 78], и в этом заключен «королевский путь» Декарта в эмпирическое сознание и в психологию (там же).
От себя отметим, что широкая эрудиция Декарта (математика, философия, теология, физика, механика, биология, физиология и др.), несомненно, связана с выдающимися творческими способностями и владением соответствующими языковыми дискурсами — от самых абстрактных, знаково-символических, до зрительно-образных, интонационно-звуковых и сенсорно-мышечных. Возможно, что определенные типы языкового сознания способствовали и тем медитативным (созерцательным в нашей версии [3; 5; 13]) состояниям Декарта, которые неоднократно упоминаются в «Размышлениях», в особенности связанные с ситуациями «сомнения, ухода в “зазор, подвес и глядение оттуда”» [9, с. 15]. В этом смысле становится ясным тезис автора о «дискретности времени» в рассуждениях Декарта, подтверждением чему служит постоянное употребление слов: «теперь, когда», «сейчас», «потом» [9, с. 16–20].